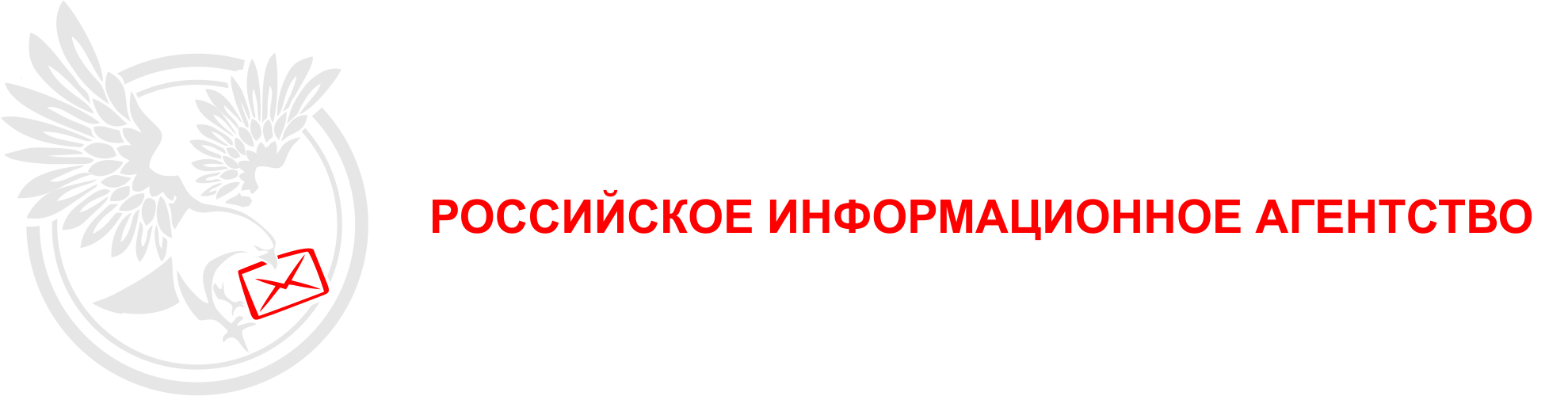Сто лет назад на Ржевском полигоне был расстрелян Николай Гумилёв. Георгиевский кавалер, офицер, поэт и путешественник погиб, к 35 годам успев оказать оглушительное воздействие и на литературу, и на жизнь в целом. Его влияние признавали и Мандельштам, и Набоков, и Всеволод Рождественский. О нем знали и в тюремных теплушках (многие наизусть), и в курилках НИИ и вузов — старшему поколению памятны его запрещенные Лаперузы, жирафы и фрегаты, набранные самиздатовским мелким кеглем на папиросной бумаге.
Без пары
Литературоведы иногда шутят, что русские поэты «ходят парами»: Пушкин и Лермонтов, Цветаева и Ахматова, Бродский и Рейн. У Гумилёва очевидной пары не было и нет. В какой-то момент его ставили рядом с Блоком (Блок — Луна, Гумилёв — солнце), однако посмертный шлейф угасшего в своей постели символиста (как сказал бы Гумилёв, «при нотариусе и враче») казался слишком бытовым и штатским на фоне эффектного вызова дворянина, больше гордившегося званием прапорщика, чем поэта. Его неочевидная пара — Редьярд Киплинг, поэт имперский, государствообразующий, этапный.
Гумилёву сыграть такую роль не довелось — намеревавшийся пожить до 90 лет, он погиб в 35, завершив сознательно выстроенный литературный миф. Миф искреннего рыцарского служения, но не империи, а бескорыстному приятию бесконечно расширяющегося мира, завораживающе прекрасного и беспощадного.
На самом деле Лаперузы и жирафы, невесты льва и черные девы — для антуража. Основной пафос его поэтического высказывания составило стоическое принятие красоты и жестокости. Это кредо сформулировано в знаменитом гумилевском верлибре «Мои читатели» 1921 года: «Старый бродяга в Аддис-Абебе, /Покоривший многие племена, /Прислал ко мне черного копьеносца /С приветом, составленным из моих стихов. /Лейтенант, водивший канонерки /Под огнем неприятельских батарей, /Целую ночь над южным морем /Читал мне на память мои стихи». И — далее: «А когда придет их последний час, /Ровный, красный туман застелит взоры, /Я научу их сразу припомнить /Всю жестокую, милую жизнь, /Всю родную, странную землю, /И, представ перед ликом Бога /С простыми и мудрыми словами, /Ждать спокойно Его суда».
Евангелие и Гомер
Воин и путешественник, о чьей безрассудной смелости слагали легенды, боялся смерти и дьяволопоклонников. Он переплывал реку Уаби, кишащую крокодилами, ночевал в пустыне под открытым небом, а после революции читал матросам Балтфлота: «Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя». Однако Георгий Иванов вспоминал, как однажды, незадолго до ареста, Николай Степанович нашел у себя в почтовом ящике молитву утренней звезде (то есть Люциферу). Другой бы не обратил внимания, а Гумилёв очень расстроился.
О смерти он думал всегда. Алексею Толстому рассказывал, что постоянно носит с собой цианистый калий. Гумилёву нравилось, что в любой момент он может попробовать смерть на вкус. Поэтесса Ирина Одоевцева вспоминала монолог, который ее учитель произнес в рождественский вечер 1920 года: «Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая, трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью… Все мы приговорены от рождения к смертной казни. Смертники. Ждем — вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул. Как кого. Я, конечно, самонадеянно мечтаю, что умру я не на постели. При нотариусе и враче… Или что меня убьют на войне. Но ведь это, в сущности, всё та же смертная казнь. Ее не избежать».
Гумилёва уговаривали быть осторожнее. Он смеялся: «Большевики презирают перебежчиков и уважают саботажников. Я предпочитаю, чтобы меня уважали». Он был совершенно спокоен при аресте, в тюрьму взял Евангелие и Гомера.
«И умру я не на постели, /При нотариусе и враче, /А в какой-нибудь дикой щели, /Утонувшей в густом плюще», — писал он. «Не мучнистой бабочкою белой /В землю я заемный прах верну, /Я хочу, чтоб мыслящее тело /Превратилось в улицу, в страну», — ответил Мандельштам. «…И умру я не в летней беседке от обжорства и от жары, а с небесной бабочкой в сетке на вершине дикой горы», — подытожил Набоков.
«Все под Гумилёвым»
Синдик акмеистического «Цеха поэтов», вызвавшийся вернуть слову полнокровное звучание в противовес игровой символистской туманности, мастер слова, экспериментировавший с метрикой, Гумилёв с ранних лет сформировал поэтический почерк, выбрав воинскую доблесть и имперскую мощь с поправкой на любовь и ориентальную экзотику в качестве основных тем. Мегазвезда Серебряного века, по складу характера и самобытности дара он был поэтом допушкинской поры, сознательно защищавшим свои стихи от всего больного, преходящего, случайного.
«Я любил его молодость. Дикое дерзкое мужество его первых стихов. Парики, цилиндры, дурная слава, Гумилёв, который теперь так академически чист, так ясен, так прост, когда-то пугал», — вспоминал его гимназический товарищ, историк искусства, знаменитый теоретик авангарда и гражданский муж Ахматовой Николай Пунин. И добавлял: «Пугал жирафами, попугаями, дьяволами, озером Чад, странными рифмами… темной и густой кровью своих стихов… Он пугал… но не потому, что хотел пугать, а от того, что сам был напуган бесконечной игрой воображения в глухие ночи, среди морей, на фрегатах, с Лаперузом, Да Гамой, Колумбом — странный поэт, какие должны в нем тлеть воспоминания, какой вкус на его губах, горький, густой и неисчезающий».
Визитная карточка поэта, конечно, «Жираф» — хрестоматийная, но очень гумилевская. Тут всё — и «африканские страсти», над которыми посмеивались современники, и «уверенность в движении рифмы», и «зоркость в эпитетах». Здесь «дано больше глазу, чем слуху», а «сам поэт исчезает за нарисованными им образами» — так отозвался о сборнике, куда входит это стихотворение, Валерий Брюсов. Очень гумилевская и драматургия: сверкающее ориентальное великолепие, и черные девы, и туманы над озером Чад летят ворохом нелепых сувениров в угол плохо протопленной комнаты женщины, которая не верит «во что-нибудь, кроме дождя».
Обреченная, любимая мемуаристами пара, Муза плача и Конквистадор в панцире железном, обвенчалась в 1910-м, а в 1918-м разошлась. Экстравагантный не только по меркам царскоселов молодой поэт упорно добивался благосклонности Анны Горенко. Впервые встретились на катке, потом столкнулись на чьем-то воскреснике. Получив очередной отказ, шел на крайние меры: ездил топиться в Нормандию. С дороги послал портрет со стихами Бодлера. Попытка не удалась — с пустынного пляжа прогнали блюстители порядка, принявшие юношу за бродягу. Целый, невредимый вернулся в Париж — к радости молоденьких поэтесс, каких-то прекрасных гречанок и «царицы Содома» — баронессы. «Ради Вас я бросил сразу два романа», — корил он Ахматову в письме. «А третий,—– смеялась она годы спустя, — с Орвиц-Занетти?»
Историки спорят до сих пор, мог ли Гумилёв оказаться заговорщиком. Как монархист и ярый противник советской власти — мог. С другой стороны, он не раз высказывал убеждение, что нужно по совести служить своей родине — независимо от того, какая в ней власть. Об эмиграции не помышлял. После революции, когда надежда на военную карьеру рухнула, вернулся в Петроград как обычный гражданский. Ушел с головой в литературную жизнь: издавал один за другим сборники — «Мик», «Фарфоровый павильон», «Костер». Читал лекции в многочисленных студиях, возродил «Цех поэтов». «Обезьян растишь», — посмеивалась уже бывшая жена Ахматова.
Современники вспоминали, что в 1918–1921 годах среди русских поэтов равного в авторитетности Гумилёву не было. Секрет его был в том, что он, вопреки поверхностному мнению о нем, никого не подавлял авторитетом, но «заражал энтузиазмом». Блок ворчал: «Все под Гумилёвым».
«Пятно на ризе революции»
Приговор Гумилёву вызвал большой резонанс. Его пытались спасти. Хлопотали ученики и коллеги, повлиять на ход событий пытался Максим Горький — лично обращался к Дзержинскому и Луначарскому. Последний дошел до Ленина, но Ленин отказал. Сотрудники издательства «Всемирная литература», где работал в последние годы Николай Степанович, дошли до председателя ЧК Петрограда Семенова. Говорят, услышав, что арестован поэт, равный Блоку, тот поинтересовался, что еще за Блок…
Гумилёв был арестован по подозрению в участии в «таганцевском заговоре», названном по фамилии преподавателя географии в Петрограде. Росчерк в деле поставил следователь, который не знал даже имени подследственного — называл его Станиславовичем. Что касается гибели, тут есть несколько версий: поговаривали, что охрана забила его в камере еще до расстрела — за непокорность и высокомерное отношение к тюремщикам.
Есть и более романтическая версия, известная со слов женщины, чей друг служил в расстрельной бригаде.
Раннее утро. Ржевский полигон. В предрассветной мгле солдаты вытаскивали из заброшенного порохового склада осужденных — в исподнем, халатах, изодранных гимнастерках без погон — и гнали к ямам. Человек в помятом черном костюме вышел сам, не спеша, даже вальяжно, сонно закурил… И тут на лесной дороге появился черный «бьюик». «Поэт Гумилёв, выйти из строя!» — приказал щеголеватый офицер. «А они?» — усмехнувшись, Гумилёв указал на шеренгу за спиной. «Николай Степанович, не валяйте дурака!» Человек в потрепанном костюме улыбнулся, затушил папироску: «Здесь нет поэта Гумилёва, есть офицер Гумилёв», — и сделал шаг назад, в строй…
«Гибель Гумилёва — единственное пятно на ризе революции», — отозвалась об этой трагедии красный комиссар, поэтесса и красавица Лариса Рейснер. А в письме матери написала: «Если бы перед смертью его видела, всё ему простила бы, сказала бы, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта Гафиза, урода и мерзавца».
Гумилёв умер с той самой «бабочкой, бьющейся в его сетке» — этой бабочкой были Набоков, Мандельштам, акмеисты-эмигранты и их король Георгий Иванов, политзаключенные в ГУЛАГе, шестидесятники с их самиздатом и даже современные поэты, любители неторопливых штудий. Его отношение к поэзии как к ремеслу — снова в тренде. Именно Гумилёв открыл путь к стихосложению как общедоступной сфере познания, сфере коммуникации открытых знаков, требующей искренней эмоции и только потом мастерства.